И. Бахофен во втором томе своего "Материнского права" (с. 77-83) пишет:
"На изображениях из Мероэ 1 мы порою видим фигуры весьма воинственных и, без сомнения, правящих цариц. Согласно Макризи 2, у бедша 3, которых я считаю прямыми потомкоми мероитских эфиопов и предками нынешних бишарин, генеалогии рассчитывались не по мужской, а по женской линии, а наследство переходило не к собственному сыну, а к сыну сестры или дочери умершего. Точно так же, согласно Абу-Селаху 4, у нубийцев при передаче трона сын сестры покойного имел преимущество перед его собственным сыном, а Ибн Баттута 5 свидетельствует о том же обычае у мессофитов — западном негритянском народе». Катрмер 6 в своих Mémoires géographiques et historiques sur l'Egypte et sur quelques contrées voisines, Paris 1811 на с 32 говорит следующее: "У нубийцев, говорит Абу-Селах (Ms. 138, fol. 99 Парижской библиотеки), когда умирает царь и оставляет после себя сына и племянника со стороны сестры, последний восходит на престол вместо естественного наследника. Однако если у сестры царя нет ребёнка мужского пола, сын вступает в свои права и наследует отцу". На с 136 всё тот же Картмер указывает со ссылкой на фрагмент из Макризи 7, который тот, в свою очередь, заимствует из Истории Нубии Абдаллы бен-Ахмеда эль-Ассуани и приводит в своём, к сожалению, до сих пор не изданном описании Египта: "Они считают свою генеалогию с женской стороны. Наследство у них переходит к сыну сестры или сыну дочери в ущерб сыновьям покойного. В оправдание этого обычая они утверждают, что происхождение сыновей сестры и дочери не может вызывать подозрений и что они, несомненно, принадлежат к той же семье, невзирая на то, от кого родила их мать: от мужа или другого лица". В своём примечании тот же писатель добавляет к вышесказанному: "Подобный обычай имеет место у других народов и у многочисленных дикарских племён Северной Америки", — и цитирует неопубликованный отчёт за 1634 г. некоего миссионера из Новой Франции, в котором последний сообщает то же самое и о гуронах: "Вождю наследует не собственный сын, а племянник со стороны сестры". Схожие сведения сообщает Ибн Баттута о городе Абу-Латен в Судане. И. Л. Буркхардт в третьем приложении к своим Travels in Nubia (London, John Murray, 1819. S. 536) приводит следующие выписки из наблюдений арабских путешественников: "Их женщины красивы и пользуются большим уважением, чем мужчины, которые не завидуют им. Они считают родословие по дяде, а не по отцу; сын сестры наследует в обход родного сына — обычай, которого, говорит Баттута, он не видел нигде более, кроме как у малабарских язычников-индуистов. Эти же негры — мусульмане". Буркхардт (с. 278) сообщает о собственных наблюдениях, сделанных в Шенди — городе, расположенном в восточном Судане: "Власть находится в руках мека. Имя нынешнего предводителя — Нимр, то есть «Тигр». Царствующая семья принадлежит к тому же племени, что сейчас занимает трон Сеннара, то есть, Волд Аджиб, которое, насколько мне удалось понять, является ответвлением племени Фаннье. Отец Нимра был арабом из племени Джаалийин, а мать была королевской крови Волд-Аджиб, и таким образом оказалось, что женщины имеют право наследования. Это согласуется с рассказом Брюса, который обнаружил, что в Шенди трон занимает женщина, которую он называет Ситтина — арабское слово, которое значит „наша госпожа"».
Древние оставили нам некоторые, хотя и весьма скудные известия об Эфиопии. Плиний (Естественная история, VI, 29) пишет: Aedificia oppidi — Meroës — pauca; regnare feminam Candacen, quod nomen multis iam annis ad reginas transiit. Delubrum Hammonis et ibi religiosum et toto tractu sacella. Слова Плиния подтверждаются рассказом книги Деяний (8:27-28) о крещении евнуха эфиопской царицы Кандакии, а также сообщением Страбона (География, XVII, 820) о подавлении Петронием эфиопского мятежа: "Среди беглецов были и военачальники царицы Кандаки, которая в наше время управляла эфиопами, женщины мужского склада и слепой на один глаз. Всех их Петроний захватил в плен живыми и т.д." О значении слова Κανδάκη 8 мы находим в Схолиях к Деян 8:27, приводимых в У. Alberti, Glossarium graecum in sacros Novi Foederis libros, p. 213 и в Cramer, Anecdota Craeca, vol. 3, p. 415 (FHG, IV, 251) следущие замечания: "Кандакией эфиопы называют всякую мать царя. Так говорит Бион в первой книге «Эфиопик»: «Эфиопы не указывают отцов царей, но выдают их за сыновей Солнца, а каждую мать называют Кандакией»". В слове Κανδάκη, как в английском queen, значение «женщина» переходит в «повелительница». Наименование Κανδάκη соответствует туземному Hendaque. Согласно Брюсу (/. Bruce, Travels to Discover the Source of the Nile, 4, 532), в Шенди сохранилось предание, что в древние времена этой страной правила женщина по имени Hendaque. Иосиф и Августин превратили в эфиоплянку также царицу Савскую, которая, услышав о славе Соломона, пришла испытать его загадками. Другие, как, например, Иустин, Киприан и Кирилл, считают её аравитянкой. Наш Спаситель называет её «царицей южной» (Мф 12:42; Лк 11:31; 3 Цар 10:1 и след.; 2 Пар 9:1 и след.)".


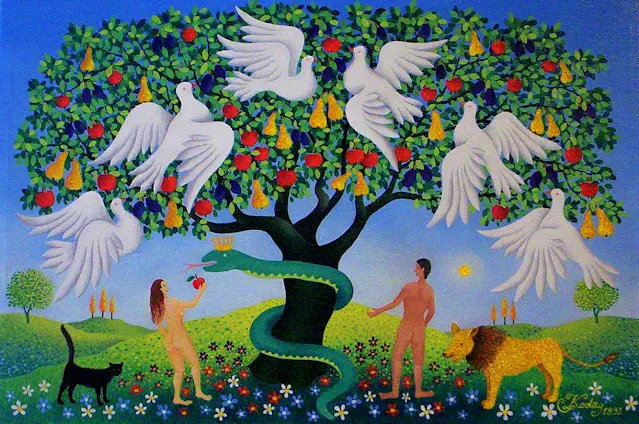
























 Либуше заменила отца после его смерти и вышла замуж за обычного пахаря, которого сделала королём и правителем Чехии.
Либуше заменила отца после его смерти и вышла замуж за обычного пахаря, которого сделала королём и правителем Чехии.  Либуше,
как правительница, была судьёй. Однажды к ней пришли двое братьев,
поссорившихся из-за поля, которое оба считали своим. Либуше послушала их
и решила, что правда на стороне младшего. Старший же рассердился и
сказал: "Позорно, когда нас, мужчин, смеет судить женщина! У них, у
этих, волос длинен, да ум короток".
Либуше,
как правительница, была судьёй. Однажды к ней пришли двое братьев,
поссорившихся из-за поля, которое оба считали своим. Либуше послушала их
и решила, что правда на стороне младшего. Старший же рассердился и
сказал: "Позорно, когда нас, мужчин, смеет судить женщина! У них, у
этих, волос длинен, да ум короток".  Старейшины так и сделали.
Старейшины так и сделали.  Но,
если честно, мы-то с вами можем догадаться, что умная Либуше на своём
коне не в первый раз ездила этой дорогой на это поле к этому мужчине.
Просто кое-кто решил выйти замуж по любви и заодно укрепить веру в свою
прозорливость :))
Но,
если честно, мы-то с вами можем догадаться, что умная Либуше на своём
коне не в первый раз ездила этой дорогой на это поле к этому мужчине.
Просто кое-кто решил выйти замуж по любви и заодно укрепить веру в свою
прозорливость :))


